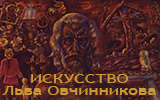А СОЛНЦЕ-ТО ВСЕ ЕЩЕ ВОСХОДИТ…
Умер Художник. На 77-м году жизни. Так и не услышав не то, чтобы адекватного, но хотя бы заинтересованного отклика на свое творчество. На свои поиски, раздумья, может быть, даже ошибки, но опять-таки чем-то обусловленные, выстраданные. К сожалению, у нас это не столько исключение, сколько правило.
Между тем, творческое наследие Льва Авксентьевича Овчинникова (1926 — 2003) удивляет (и озадачивает!) многоликостью. Здесь и живопись (масло, пастель, акварель), и графика (гравюра на линолеуме и на дереве, офорт, сухая игла, литография, монотипия, контурный рисунок). Разные жанры, темы. Разные манеры. Поначалу может показаться, что подобно японским мастерам, о которых вспоминал Матисс, художник, меняя свой стиль и технику, имел бы право всякий раз брать и новое имя…
При более внимательном знакомстве с работами Овчинникова прорисовываются определенные стадии его развития, характерные для многих художников, начавших дышать посвежевшим воздухом оттепели: ориентация на живописность импрессионизма в его российской коровинско-серовской версии; овладение широким цветовым виденьем (пейзажи Старой Ладоги конца 1950 — 1960-х годов); затем — нарастание энергетики выразительного языка, императивная экспрессия «сурового стиля», романтический реализм черно-белой «графики, спешащей схватить, как казалось, бескомпромиссную правду жизни («На крыше.Плотники», «Ворот», «Сортировщики» — все 1965 года). Параллельно — упорное освоение обнаженной натуры в различных техниках эстампа, «одрагоцениваемого» фактурной разработкой, развитие в «элементарных» мотивах «ню» композиционно-пластического мышления; оно, в свою очередь, подразумевало оглядку на отечественных мастеров конца 20-х, начала 30-х годов (Петров-Водкин, круговцы), их поиски обобщенной формы, монументальности, «стиля эпохи».
Несомненно, в своем онтогенезе Овчинников проходил филогенез искусства (за исключением, может быть, программного авангарда) почти всей первой половины ХХ века. И все же важнее другое: поражает упорство художника и в достижении намеченных целей, и в решительности перешагивания достигнутого. В том числе и бесспорно удачного, впечатляющего артистическим мастерством, которое на каком-то этапе словно бы становится не главным… Художник все время спешит куда-то дальше…
Невольно останавливает внимание его, пожалуй, самый «экспрессионистический» эстамп той поры «Мыслитель» (1966). Крупным планом взято лицо человека, обхватившего свою голову утрированно костлявыми руками; сквозь пальцы пробиваются клочья волос. Из — как бы случайных! — пятен возникает образ, фокусирующий проблемы и глобальные, и личностные. Если работа эта и не автопортретна, то, конечно же, исповедальна. Как признание человека, задающегося непростыми вопросами.
Мне кажется, Лев Овчинников принадлежал к той породе русских людей, которая давала миру и освоителей новых земель, и ведунов-отшельников, и Кулибиных. Моряк по первой профессии (кочегар и механик), по велению душевному он был художником. Хоть и происходил из провинциальной глуши (деревня Пурех, Чкаловского района, Нижегородской области). Мать — дочь сельского священника. Отец — крестьянский сын, но ему удалось получить образование. Он стал агрономом. В свободное время занимался живописью, играл на скрипке. Как и во всей России начала прошлого века, семьи родителей были многодетными; все дети пели в церковном хоре. Однако биографические данные еще мало говорят о характере художника. А был он человеком парадоксов.
С 14 лет начал работать. Умел поставить дом, починить — «самопридуманным» способом — мотор. В то же время к нему словно примагничивались удивительные истории, творившие сказочную «небывальщину» его жизни. Да и сам он легко импровизировал сыновьям на сон грядущий собственные байки, где всегда в наиболее драматический момент появлялся избавитель, скажем, в лице Георгия Победоносца…
Еще в юности успевший повидать мир — от Руана до Сингапура, — поездивший по Средней Азии и Кавказу, он остался верен русской природе, а особенно Северу, побывав и в Архангельской области, и на Вологодчине, исходив берега Двины, Пинеги, Мезени, Ояти…
В Академию художеств — после окончания в 1955-м Училища им. В. А. Серова — не поступил. Но нашел для себя Академию в Ленинградской литографской мастерской, где работали такие выдающиеся мастера (живописцы по образованию, «эмигрировавшие» в трудные времена в секцию графики), как Ю. А. Васнецов, А. Л. Каплан, А. С. Ведерников (почти земляк Овчинникова), Б. Н. Ермолаев, — ставшие как бы его наставниками…
Худо ли бедно, но когда те, кто сдавал с ним вместе экзамены, еще заканчивали Институт им. И. Е. Репина, он был уже членом Союза художников (1961). Впрочем, не внешние успехи влекли Овчинникова, а тем паче не финансовое преуспеяние. Работал не на продажу. На жизнь же зарабатывал, делая цветные линогравюры на темы русских сказок для Художественного фонда. Веселые яркие картинки, с юмором в духе народного лубка, перекликающиеся со знаменитыми васнецовскими, но вносящие в традиционные образы и нечто свое. Особенно выразительны: листы «Котофей» (1969), преисполненный сознания собственной власти, хлопотливая «Коза с сеном» (1973) и она же в домике (1975); да и другие эстампы одушевлены трогательной (соизмеримой с детским игровым восприятием мира) очеловеченностью — будь то Мишутка, Петух или Заяц.
Эпизод, связанный вроде бы с чисто заказной работой, проливает дополнительный свет на представление о личности Овчинникова. Как водится, гравюры надо было нести на утверждение Худсовета. На одной из них Иванушка-дурачок восседал на Коньке-Горбунке. Восседал с выпрямленными ногами. Худсовет сказал: «Колени-то подогни! — Так не бывает». Интуитивно чувствуя, что в сказке так может и должно быть, Овчинников не согласился на исправления, забрал свою работу и, уходя, — уже в дверях — услышал «отеческое» напутствие: «Ничего, кушать захочешь, подогнешь!..» Но, видно, подстать своему сказочному герою, он оказался из числа «негнущихся»… Не этим ли объясняется его неуспокоенность, боязнь засидеться в слишком комфортабельном «кресле» хорошо отработанных приемов, неприятие «прирастающей к руке» эффектной мастеровитости?..
Раздумывая, я переставляю — в мастерской художника — его работы. И вдруг как будто сами собой находят друг друга две прямо противоположные и по смыслу, и по выражению вещи: подобный светлому отроческому виденью бесхитростный портрет девушки («Обнаженная с рыжими волосами», 1992) и — тоже «ню», пожилая женщина, — готически беспощадное изображение — по белому черной темперой — этюд к картине «Три старухи» (1985 — 1986). Прелестный расцвет жизни — и ее трагедийный итог. Манящий рай — и подстерегающий ад… Не здесь ли ключ к пониманию сокровенной подоплеки творчества художника? Кажется, он все время ощущает «полюса» бытия. Прежде всего — в плане экзистенциальном, но — в реальной истории — неотрывном от плана социального.
Еще в студенческие годы — для работы над дипломной картиной «Седов» — Овчинников, запасшись путевкой Обкома комсомола, отправился на Крайний Север. Солидные печати официальной бумаги открывали доступ в места весьма заповедные. Судьба занесла художника и на остров Вайгач, некогда владение ГУЛАГа, где в начале Войны была по приказу «сверху» затоплена — вместе с заключенными — шахта. Эту историю художник узнал случайно, от спасшегося чудом очевидца. И вход в шахту («пасть преисподней»!) запечатлел уже в 1980 году. Память об испытаниях и муках людских, — об аде, существующем рядом, неизменно сопровождала художника. В его творчестве много мрачных мотивов: разрушающиеся храмы, полупокинутые, вымирающие деревни, где во тьме на всю округу разве что один фонарь («У магазина» — превосходный холст 1986 года); томительно долгие северные — с узкой багряной полоской у горизонта — закаты; сумерки, туман… Причем, не только как явления внешней реальности, но и как проекция внутреннего состояния, мироощущения. Сумерки конца века, конца эпохи…
Но сумеречным закатам — в контексте творчества художника — противостоят восходы. Сквозь туманную дымку то и дело сквозит солнце. А щемящая печаль северных деревень и рек таит в себе отсвет надежды. Ибо реальность духовная для Овчинникова приоритетнее реальности фактической. Соприкасающееся с самой что ни на есть грешной землей, его искусство ориентировано на воспарение к небу. Ад не в силах упразднить рая.
Только в чем обрести опору художнику, ищущему гармонию с реальным человеческим миром и не находящему ее? Прошедшему обучение в Питере, ему было бы уже невозможно вернуться — подобно творцу сельской утопии Ефиму Честнякову — в родную деревню… И, пускаясь в странствия по просторам Отечества, он нередко чувствует себя чужим среди своих…
Вспоминаю одну из отличных «суровостильных» гравюр Овчинникова, названную подчеркнуто нейтрально «Парни» (1967). Шеренга «парней» с гармонистом, выделенным белой рубахой, изображена фронтально, занимая почти все поле эстампа. Она шагает прямо на зрителя, распугивая кур, — мотив, вызывающий улыбку. Но его явная ирония получает драматический отклик: за спинами молодцов силуэтно вырисовываются смотрящие им вслед… Не обиженные ли? — Похоже, что пудовые кулаки парней уже хорошо поработали. И — что там куры-петухи! Все — прочь с дороги! Гуляет стихия…
С этой работой связана своя история. Не нравилось что-то мужичкам в пришельце. Предложишь выпить — не пьет! (Не уважает?!) Да и «снимает» их — неприодетых, непричесанных, — какими они и сами себя видели. Вообще — не такой какой-то… «Товарищеская критика» выразилась в том, что один из парней — художник точно показывал: «вот этот!», — сев в лодку вместо перевозчицы и куражась перед дружками, пригрозил его утопить. «Что ж, — ответил бывший моряк, — вместе пойдем ко дну…»
Случай — не причина, но симптом. И описанная ситуация повторялась, варьировалась, намекая на некий разлад между «народом» и его «кровным сыном», ставшим (вишь ты!) художником. Его соотечественникам, воспитанным на государственном китче «Кубанских казаков», суровостильная «правда-матка» была, видать, не по шерстке… Да и эйфория «оттепели», не единожды перемежавшаяся «заморозками», испарялась. В отличие от наступательной декларативности 60-х, искусство 70-х тяготело к сосредоточенности, к углублению в собственные проблемы. Экспрессивная черно-белая лексика линогравюры и интеллигентски-изысканная — монотипии, что было характерно для работ Овчинникова в предшествующие годы, уступает место созерцательно-неспешному, внимающему подробностям быта языку офорта. Взгляд художника становится более пристальным, контур, очерчивающий предметы, — как бы затрудненным, раздумчиво-запинающимся. Возникает серия замечательных изобразительных повествований о житье-бытье деревенских стариков и старух. О горьком одиночестве, таящем в себе тихое подвижничество («Старики»,1970; «Спящая старушка», 1972). В одном из эстампов Овчинников изображает самого себя, рисующим пожилую женщину. И «сжатая» композиция, приближающая художника к модели, и разворот исполняемого портрета на зрителя (интересно, что нарисовано!) — красноречивые свидетельства ориентации на народное (а отчасти, самодеятельное) искусство («В избе», 1972). Принципы самодеятельного творчества просматриваются и в портрете гурзуфского художника Николая Шкадинова (1978). Овчинникова влечет просторечье фольклора. Простодушно-экспрессионистическим представляется «Портрет Петера» (1978), австрийского писателя. Сам же Овчинников изображает себя иначе: в «Автопортрете» того же года, тоже экспрессивном, если и не говорит возвышенным слогом, то в собственном облике «мужика» как бы прозревает черты «апостола».
Он по-прежнему оберегает в себе устремления художника-мыслителя, продолжая осваивать территории Севера не только как географические, но и как духовно-эстетические. Значимо лаконичны экспонированные мотивы его картин: графически заостренная композиция «Сушилка. Рыбки» (1980), «Берег» (1995) или «Покинутый дом» (1984), изображенный фронтально; с горизонталями его бревен, находящими отзвук в «строке» улетающих гусей, контрастирует вертикальная опора колодезного «журавля», напоминающая о жесте молитвенно вскинутых рук. Языком пластической символики выражен и притчевый смысл картины «Окно с птичкой» (1978), где за крестом оконного переплета, в замутненном пространстве человеческого жилья видна цветистая певунья…
Столь же осмысленна работа Овчинникова над мотивами многочисленных «ню» или «нюшечек», как их ласково именовал автор. Удивительно, но его «нюшечки» почти даже не эротичны. Художник не столько упоен женскими прелестями, сколько ищет, выстраивает свой эстетический идеал. Если угодно, концепцию Прекрасного. Правда, он довольно скоро уходит от откровенной аллегористики «Обнаженной с одуванчиками» (1976), — уже отцветшими; их серебристые шары эфемерно призрачны… Более сложна и «закрыта» картина «Две девушки» (1980). Они представлены обнаженными в многозначительной фронтально-симметричной композиции, как бы развертывающей притчу о коллизии выбора: за плечами одной — порхающий амур, за спиной другой — точно охваченный ознобом голенький мальчик…
Словно споря с самим собой, с чрезмерной смысловой нагруженностью предыдущих работ, художник вводит в композицию иррациональную составляющую: в «Обнаженной с рыбками» (1987) — (Откуда рыбки? Почему?) — молодая женщина выступает как творение сна, причуда грезы… «Обнаженная (Жанна)» (1987) — очевидная парафраза ларионовской «Венеры» 1900 — 1910-х годов: тоже смотрит одним глазом, прикрывая другой. Этот «отсыл» позволяет острее почувствовать и различие: у Ларионова — пластически акцентированный глаз говорит о внутренней отрешенности «Венеры» от своей телесной ипостаси. У Овчинникова — «Жанна» смотрит завлекающе-игриво, оппозиция телесного и духовного снимается. Душа — растворяется в теле. Возникающее как отуманенное видение художника, это единство тоже по-своему концептуально… В «небесной» жемчужно-переливающейся среде почти истаивает «Обнаженная с младенцем» (1988)… Перед нами — разные формулы «гения чистой красоты»: Женщина — мираж; Женщина — иероглиф, арабеска («Обнаженная с желтыми цветами», 1984); Женщина — с лицом восточного типа — завораживающая тайна, вплетенная в орнаментальную композицию («Обнаженная с кувшином», 1975 — 1995).
Вот почему и откровенно китчевые вариации эстетического идеала у Овчинникова трудно не признать вполне преднамеренными. Может быть, именно в поисках его художник и видел преодоление разрыва между искусством «интеллигентским» и «простонародным», отвечающим вкусам большинства населения? Ведь начиная с того же Ларионова, многие русские живописцы оценили так называемую низовую культуру — вывески, балаганные декорации. Ю. Васнецов обожал базарных копилочных кошечек и написанных на клеенке лебедей. Б. Ермолаев пришел к своему варианту примитива через Пиросмани. Фольклорные традиции, уходящие в глубь веков, вобрал в свое творчество А. Каплан. На пародоксально-прелестной смеси «нижегородского» и «французского» изъяснялся А. Ведерников… Как некогда сказал Семен Гудзенко: «У каждого поэта есть провинция…» «Своя провинция», своя детская сказка была и у каждого из упомянутых мастеров. Но на образцы родного китча они смотрели как на повод для интерпретации.
К тому же — и в этом, может быть, самое главное, низовая культура начала, да и первой половины ХХ века, была еще кровно связана с искусством — в подлинном смысле слова — народным, крестьянским, уходящим своими корнями к сакральным архетипам. В нашем Отечестве, потерявшем в результате и раскулачивания, и Войны бо?льшую часть активного сельского населения, где-то к середине ХХ века обозначились серьёзнейшие «смещения»: органическая связь основной массы жителей с землей, с традиционным укладом бытия распалась. Крестьянин ушел из деревни и не пришел в город. Все это не могло не сказаться на культурных ориентирах. Еще большую инфляцию критериев вкуса принесли 80 — 90-е годы. Простонародный, мещанский китч был инфицирован коммерческим искусством маньеристического салона…
Думается, именно эту драматическую ситуацию, свидетельствующую о глубинном распутье нашей культуры, косвенно преломляют и некоторые произведения Овчинникова («Лежащая с кувшинками», 1994; «Обнаженная с журавлями», 1995), сигнализируя о риске игры с современным китчем. Подчеркнем, однако, что не меркантильные цели вели художника, а стремление решить эстетическую задачу исключительно «для себя». В какой мере он ее решил, прояснит время. Но, несомненно, одна из коллизий современности, — коллизия между культурой, основанной на традициях высокого вкуса, и масскультом — достаточно четко указана художником. Полагаю, что и сам он вряд ли смог бы успокоиться на островках сладостного китчевого рая.
Мне представляется более перспективным то направление творчества Овчинникова, где идеально-фантазийное и ощутимо-реальное тесно взаимодействуют, переплетаются, взаимопроникают. В картине «Тихвинский петух» (1988) — сама реальность сказочна. По-земному достоверный вестник утра и перемены погоды, колористически породнен с радугой небесной и, вписанный в ее арку, ритуализируется, приобретает вид некоей эмблемы. Живыми почвенными соками насыщены — тоже поэтически преображенные — мотивы композиций «В избе. На реке Пинеге» (1985) и «За самоваром. Чаепитие» (1989). И здесь сохраняется лад неспешного просторечно-сказового (в духе Шергина), повествования. В первой работе за спиной «списываемой» старушки с полатей еще выглядывают внучата. Во второй — она совсем одна, если не считать щенка на домотканном половичке, да фотографий и икон по стенам, напоминающих о былом, недавнем и давнем. Но вся атмосфера избы как бы высветляется золотистым — прямо-таки сказочным — светом. «Золотой век» обретает свое законное место в прошлом. Раем оказывается то, что мы утрачиваем. Глубокая личностность этого «откровения» подтверждается как бы соприсутствием художника, вопреки законам оптики увидевшего свое — явно укрупненное — отражение в зеркале, висящем почти у потолка, между окнами.
Очень продуктивным для Овчинникова стало лето 2001 года, проведенное им в деревне Горушка на Новгородчине. Написанные там этюды нетривиальны по цветовому и ритмическому строю, по живой пластике формы. Поистине волшебной предстает сумрачная «Баня по черному» (2001), где на прокопченных стенах вспыхивают, драгоценно мерцая, блики солнечного света.
Небесные светила — иногда огромная луна («Красная луна»), но чаще солнце над покосившимися избами деревни — главные персонажи пастелей, исполненных в то лето. В этой серии находят органичный баланс традиции искусства «ученого» и «неученого», наивного: сохраняя память об эстетике его мастеров, художник не соскальзывает на стезю красивости. («Два домика над озером»). Вместе с тем раскованные по манере исполнения пастели — не просто этюды, но продуманные композиции, опять же не лишенные ненавязчивого символического смысла. Солнце в них — как правило, выделенное центральным местоположением, — воистину Царь Природы («Утро»). Сколь бы ни были томительны мгла, туман, они — преходящи и не в состоянии его «отменить»…
Проживший три четверти нелегкого века Художник, как ребенок, вновь и вновь открывает мир. И, удивляясь, как бы говорит себе: «А солнце-то все еще восходит»…
Лев Мочалов, март-апрель 2003
ПОСТСКРИПТУМ
По разным причинам подготовка издания, предлагаемого читателю, затянулась. Но, как говорится, нет худа без добра. За прошедшие после кончины Льва Овчинникова годы бoльшее количество его работ стало доступно обозрению. Расширилось представление о диапазоне исканий мастера. Главное же, возникла та историческая перспектива, которая позволяет осмыслить творчество художника в общекультурном контексте. Поясню, что я имею в виду.
Лев Овчинников — типичный шестидесятник. Шестидесятничество — социокультурное явление — было основательно посрамлено, если и вовсе не втоптано в грязь размашистой публицистикой «лихих девяностых». (Ну, как же! — Избыточный романтизм, неоправданные иллюзии!) Но известно: наши внуки нередко «мстят» отцам за то, что те отвергли их дедов. И, думается, сейчас пришла пора (что подтверждается и интересами коллекционеров) «воскрешения» шестидесятников. Сошлюсь на Дмитрия Быкова: «Шестидесятники, — пишет он в своей книге об Окуджаве, — половина их была фронтовиками, а половина — младшими братьями фронтовиков — надолго останутся самым талантливым российским поколением» (Булат Окуджава, М., 2009, с. 458).
Несомненно, явление шестидесятничества связано с оттепелью. Но если не идти по стопам деятелей советского официоза, отождествляя культуру с идеологией, то мы увидим следующее: оттепель, — то бишь, спущенная сверху и дозированная либерализация, — сыграла для искусства лишь роль спускового механизма. Как фаза социально-политическая, она действительно укладывается примерно в хронологический формат десятилетия: начиная с середины 50-х (эпохи «позднего реабилитанса») и завершая 68-м годом. Годом «Красного мая» в Париже и «Чёрного августа» в Праге. Видимо, этот год — «неспокойного солнца», по Г. Боровику, — оказался точкой бифуркации для истории в глобальном смысле. Что касается культурного процесса, то он охватывает рамки более трёх десятилетий. С середины 50-х — до конца 80-х. И, безусловно, шестидесятничество — его «бродило».
По своей креативной энергетике художественный феномен этой эпохи сопоставим с культурным взрывом рубежа XIX и XX веков. С трагическим надломом и мучительной жаждой Красоты Серебряного века, трансформировавшимся в Великую утопию авангарда.
Именно потому, что шестидесятники (осознанно или неосознанно) соизмеряли себя со своими великими предшественниками и приняли в себя авангардную прививку («Бубнового валета», Н. Гончаровой и М. Ларионова и т. д.), они не пытались «переплюнуть» ни В. Кандинского, ни К. Малевича. Последние ярчайше продемонстрировали пределы живописи как особого вида искусства. «Постчерноквадратная» ситуация открывала возможности для развития других форм арт-деятельности — архитектуры, дизайна и т. д. Однако пути живописи на данном направлении пресекались. Это понимал уже М. Матюшин, выдвинувший лозунг: «Назад к природе!» А тем более — «круговцы», хорошо помнившие о Малевиче, усвоившие его опыт пластического синтеза, но искавшие свою методологию контакта с реальностью. Одним из них был А. Ведерников — земляк и главный учитель Овчинникова.
Даже такие художники, как П. Кондратьев (ученик П. Филонова и отчасти К. Малевича) и В. Стерлигов (малевичевский ассистент) — и молившийся на мэтра, и полемизировавший с ним, не порывали с натурой. Противопоставив супрематической прямой — кривую, связанную с органикой природы, они балансировали на грани Предметного и Беспредметного. Их поиски были направлены на уяснение новой философии пространства. Формула «сакрализованного пластицизма» (Cм. Лев Мочалов. Сакрализованный пластицизм. К определению понятия. Вопросы искусствознания, 97. XI, вып. 2. М. 1997, сс. 573 — 578) и выражает, с одной стороны, духовную устремлённость, а с другой — подчёркивает специфически живописную ориентацию этих высококлассных мастеров. Кристаллизовавшееся уже к началу 60-х годов их творческое кредо — при всём его своеобразии — отчётливо сфокусировало художественную проблематику Времени (не случайно они собрали вокруг себя плеяду талантливых учеников и последователей). В 90-е годы особую значимость выявила сама стратегия их искусства, безусловно, противостоявшего официозу, но не ставшего средством политического диссидентства.
Для художников-шестидесятников, которые оказались мне близки, понятие «образ» не сводилось к понятию «концепт». Живописная композиция (сочинение!) не подменялось «артефактом», под которым можно подразумевать едва ли не всё, что угодно. И картина — мыслилась как «картина мира». То есть — модель взаимоотношений личности художника с действительностью. Форма миросозерцания.
Именно в 60-е годы искусство начинало осознавать собственную миссию, переставая быть служакой идеологии. Праведность стоившей неисчислимых жертв Победы (спасение Отечества и избавление мира от нацизма с его расовым высокомерием) создавала уникальную историческую ситуацию. В труднейших условиях жизни послевоенных лет искусство принимало эту миссию праведности. Вопреки установкам официоза — оно искало «правды сущей». «Да была б она погуще, как бы ни была горька!» Эти слова Александра Твардовского — камертон творческого поведения большинства шестидесятников.
Вместе с тем праведность миссии искусства предполагала не только «прикосновение к земле», но и подключение духовного опыта народа. Сейчас, с временной дистанции, отчётливо обнаруживается парадокс: в атеистическом государстве главную роль в выработке духовных ориентиров народа принимала на себя культура. С 60-х годов она в огромной степени становится эквивалентом религии. «И если есть на свете Бог, так это ты — поэзия!» — афористически выразил суть происходившего Михаил Дудин.
Всё правдоискательство шестидесятников несёт на себе отсвет сакрализации и подвижничества. Понятно паломничество многих писателей и художников к «святым местам» — в глубинку, в обезлюдевшие, брошенные деревни, на Русский Север, где ещё оставались монастыри и печально маячили среди всхолмленной равнины одинокие — иногда полуразрушенные — храмы.
Эти ранящие сердце мотивы с обострённой чуткостью варьировались в творчестве В. Попкова, Н. Андронова, П. Никонова, С. Осипова, К. Гущина и других художников. На свой лад они осмысляются Овчинниковым. Икона (весть из прошлого!) так же, как и у Б. Шаманова, включается в предметную постановку, преобразуя сам натюрмортный жанр в ассоциативную картину. Фигуры ангелов, как и у В. Тюленева и З. Аршакуни, — участники его композиций: духовная реальность получает право на изображение наряду с предметной. Таковы стадии развития отечественной живописи. Причём, развития органического, — на основе национальных традиций.
И в 80-е, и в 90-е годы Лев Овчинников остаётся убеждённым шестидесятником. Можно сказать, что он полномасштабно дореализует нравственно-эстетическую программу шестидесятничества. Углубляет и расширяет её. Сквозь видимое всё более прозревается творимое воображением. Реальность пронизана мифами и преданиями. В бытовых сценах просвечивают древние архетипы народного бытия…
С годами всё более возникала потребность приникнуть к его первоистокам; окунуться в ушедший навсегда мир детства, где явь переплеталась со сном, быль — со сказкой. Обновление образа мира, явленного мелодикой красок и линий, и совершалось Львом Овчинниковым через предельно искреннее самораскрытие. В акте личностного творчества — соприкасалось ли оно с горестной реальностью или радужной фантазией — он подтверждал свою веру и обретал надежду…
Л. Мочалов, август-сентябрь 2009